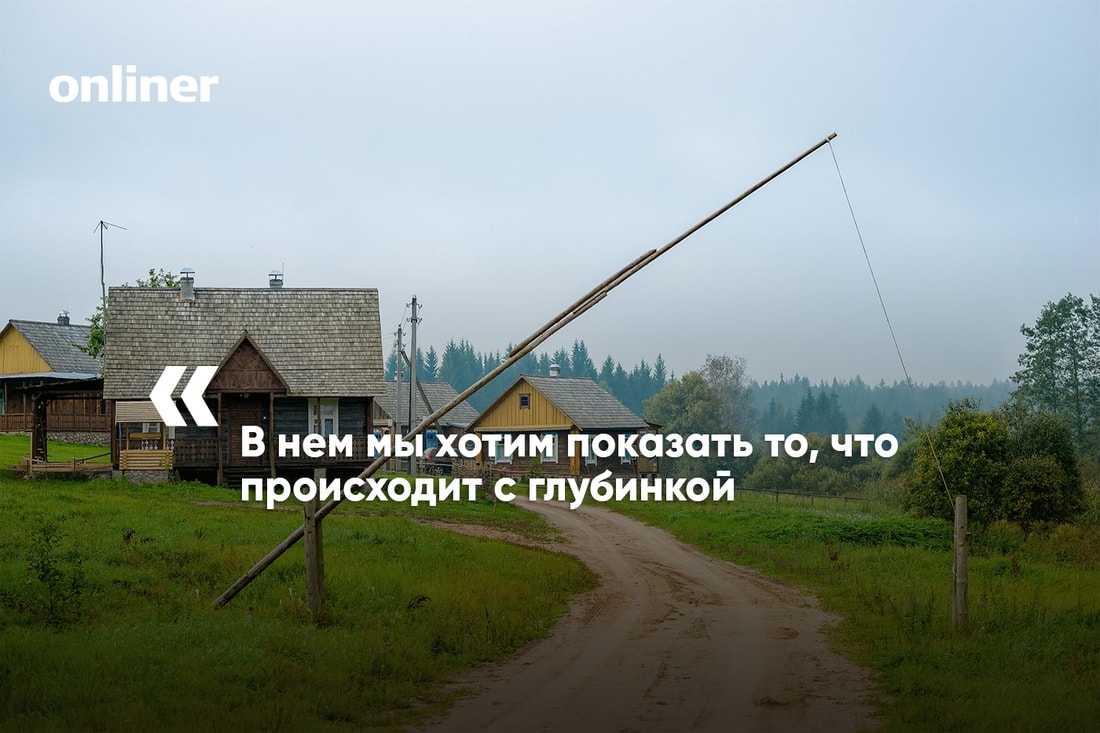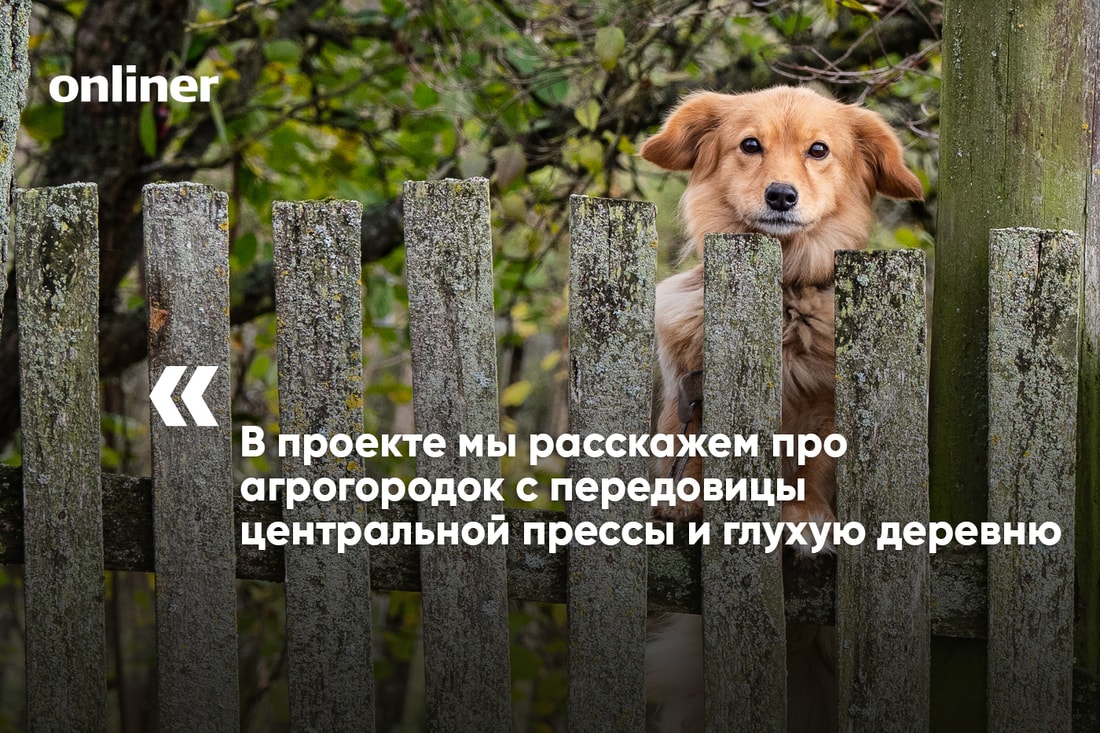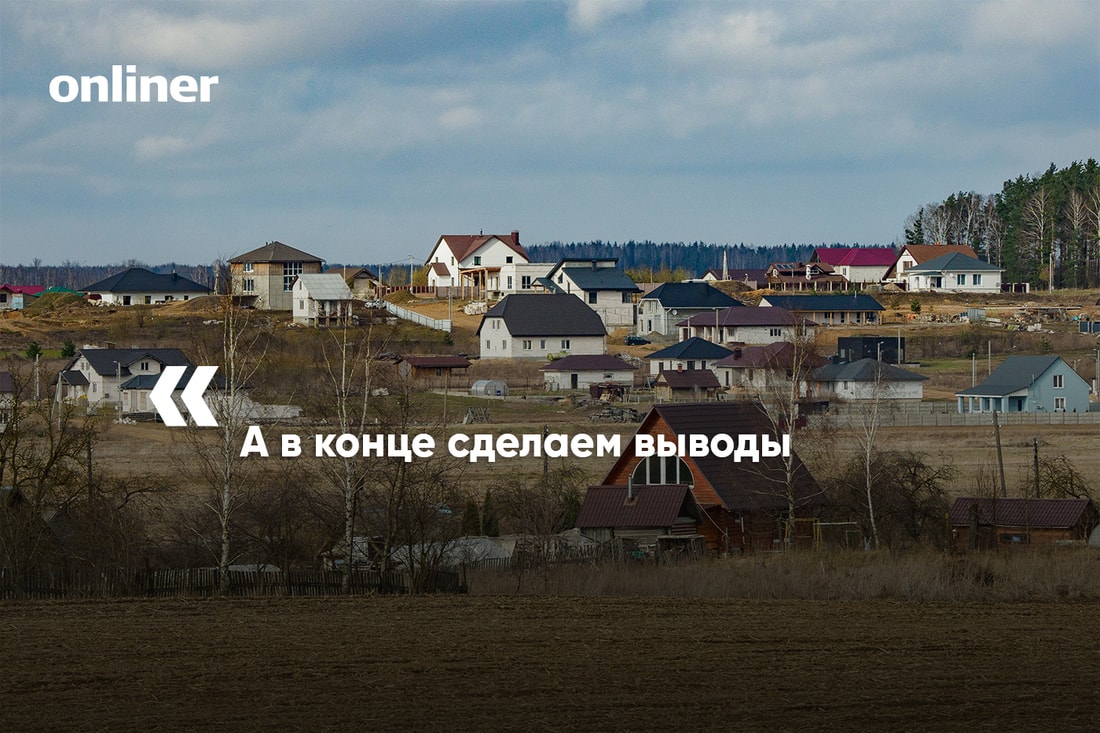Во что может превратиться деревня за 22 года. Фото тогда и сейчас
Во что может превратиться деревня за 22 года. Фото тогда и сейчас
Дима отвел корову, стрельнул у мужиков сигарету, закурил, отнес на починку старые ботинки, которые давно пора бы заменить на новые, а потом навсегда уехал. Сапожник умер, его дом сгорел, а в деревне не осталось ни одного человека со старых снимков, без которых это село было бы всего лишь одним из тысячи трупов, образующих самую большую братскую могилу в нашей стране. Но это местечко оставило нам на память старый архив, ставший порталом в прошлое. Сегодня едем в деревню 1999-го и возвращаемся спустя 22 года. Показываем все, что осталось, и то, чего больше нет.
Несколько слов о проекте
Деревня вдов
Деревню захватила сирень, которая теперь цветет сама для себя. Стройотряд аистов ушел на перекур, их бригадир небрежно кивнул мне и продолжил работу — теперь он здесь хозяин.
Мы шли все глубже, но деревня молчала. Никто не скрипел педалями, никто не всматривался в незнакомые лица, никто не выпрямлялся на грядке ради короткого «здрасьте». Село робко шептало листвой, седело одуванчиками, разводило руки зелеными коридорами, пахло травами и с надеждой поглядывало на новые лица. Прости, село, мы здесь проездом.
На ухоженном пятачке показался памятник погибшим воинам. Фамилию Вечерко — белоруса «зверски замученного полицией панской Польши» — здесь носят многие. На некоторых домах до сих пор висят знаковые таблички, указывающие на жилье героев.
Двадцать с лишним лет назад деревня тоже умирала — так писали газеты. Если полистать прессу 90-х, можно найти много статей о том, что село нужно спасать. С тех пор риторика не изменилась — чиновники используют все те же фразы, а сельская местность все так же стоит на своем и не хочет идти на переговоры.
В 1999 году фотограф Александр Ружечка снимал Бармуты для статьи в «Народной газете». Журналисты рассказывали о судьбе красивейшего места в Березовском районе, которое после войны называли «деревней вдов»: с фронта сюда не вернулся ни один мужчина, и населенный пункт оставался под присмотром сильных белорусских женщин. Но с годами демографическая ситуация выровнялась, и Бармуты стали обычной деревней, каких в стране тысячи: без крупных производств и собственных культурных центров.
В конце прошлого века здесь постоянно проживал сорок один человек. В 2010-м — шестнадцать. Сегодня — четыре.
Забытые мужики
На днях в один из домов вернулась Мария Васильевна — она зимовала «на социальной койке», как она сама говорит. Женщина провела здесь всю жизнь, ей уже за восемьдесят. Мы достаем пачку распечатанных фотографий и просим рассказать о судьбах людей, которые на них запечатлены. Бабушка листает снимки и неловко улыбается.
— Лица все знакомые, а что за люди — не помню. Вот этого точно знаю, но кто такой — бог его знает, — старушка старается изо всех сил, но у нее ничего не выходит.
Позже мы выясним, что мужчина, имя которого она не могла вспомнить, был ее мужем.
В последние годы Марии Васильевне стало тяжело ухаживать за собой, но в доме наведен порядок, протоплено и приготовлено.
Икона в углу, старый телевизор, портреты родственников, запах старого дома — еще немного, и этих знакомых всем интерьеров не останется в природе.
На одном из портретов хозяйка узнает родного дядю — Ивана. Это тот самый сапожник, сидящий на крыльце у собственного дома.
— Сам Иван 1913 года. Ему сапоги вся деревня носила, потому что никаких комбинатов у нас не было. Денег он не просил, не. Кто богатейший, тот заплатит, а у вдов никогда копейки не взял. Добродушный был человек, на ферме много лет проработал, пастухом был, — рассказывает Мария Васильевна.
В 90-х в Бармутах были магазин, школа, сюда приезжал почтальон, рядом работала ферма, на которой Мария Васильевна работала вместе с мамой. Теперь сюда приезжают только автолавка и социальные работники.
— Это Русская, мы ее так назвали, потому что она не как мы говорила, не по-деревенски. Этот хлопец от онкологии умер, это дядька мой, а это соседка одна — не вспомню уже, как звать. Но уже никого из них с нами нет, все уже померли, — потихоньку вспоминает баба Мария.
Кроме нее в Бармутах — еще одна семья и 95-летняя старушка, которая была первой учительницей тогда еще маленькой Маши. Она живет на соседней улице, но в последнее время во двор почти не выходит.
— Я потому так долго прожила, что когда-то ездила на лечение в Америку, мне дали путевку. В Вашингтон, наверное. Есть там такая область? — вдруг рассказывает бабушка и ведет в комнату.
Соседи говорят, к ней каждый день приезжает сын. Он поставил матери бойлер, сделал ванную, помогает следить за собой и домом.
— Я заканчивала польскую гимназию, поэтому что-то по-польски и сейчас скажу. А потом в школе учительницей была, деток в начальных классах учила. И Марию учила. А на всякие совещания в Пружаны на велосипеде ездила или пешком ходила. И так двадцать лет, — говорит хозяйка и пытается рассмотреть людей на фото. Получается у нее не очень: своего мужа женщина тоже смогла узнать далеко не сразу — на помощь пришлось звать соседа Валеру.
— Бабушка, ну вы что! Андрея не узнали?
— Это что, мужик мой?
— Ну! Андрей!
— Ой… Андрей Егорович... Точно мой... — Любовь Александровна хватается за сердце и удивленно раскрывает побледневшие глаза. — Это же Андрей, это же муж мой. Он из Воронежской области. Я в нашей школе была учительницей, а он физкультуру вел. Так и сошлись. Боже-боже, кто бы знал, что я настолько его переживу.
Мы с ним под Воронежем жили, а потом вернулись. У меня отец в достатке был, у него ветряная мельница была, он льняное масло делал. Все у нас было. А теперь и подруги ни одной нет, потому что 1926 года рождения. Никого уже нет. А вы знали, что я в Америке лечилась? В Вашингтоне. Есть там такая область? — Любовь Александровна широко улыбается и вслед нам говорит по-польски: — Bardzo dziękuję.
У Валерия и его супруги с распознаванием лиц попроще: они помнят всех, кто когда-то вышел на встречу с журналистами. Вот только в живых остались далеко не все.
— Вот этот пацан, которому сапоги чинят, это Димка Черноморец. Его так прозвали из-за того, что смуглый он. Он в соседней деревне живет, на пилораме вроде работает, — говорит Валерий и помогает сопоставить снимки с деревенскими видами.
Дима уехал из Бармут буквально через год после репортажа. Вместе с мамой он переселился в более живую деревню, где устроился слесарем. В поселке есть газ, вода, стоят приличные кирпичные дома, работает магазин. Самого Диму мы дома не застали — он уехал в другой город по делам, зато поговорили с его мамой.
— У Димки все хорошо. Работает. Забор вот ставим, да только денег не хватает — металлопрофиль подорожал. Вы знаете, Бармуты уже тогда умирали, а надо было работать, делать что-то. Мы тут дом купили, живем потихоньку. Но Бармуты все равно жалко, — говорит женщина, коротающая время на клумбе.
Деревня, которая живет один день в году
Сегодня Бармуты живут всего один день в году. Каждую третью субботу июня сюда съезжаются бывшие односельчане, чтобы вспомнить молодость, сходить на кладбище, вместе выпить и спеть старую песню. Не встречались они только в прошлом году — из-за пандемии. Но в этот раз планируют встретиться снова.
Когда-то эта старая традиция собирала несколько десятков человек. На одну из встреч местный мужчина сорвался аж из Северодвинска, а это 1300 километров по прямой. Несколько лет подряд сельсовет организовывал концерты, куда привозил музыкантов, а после люди шли к кому-нибудь домой и продолжали банкет своими силами. Сколько людей соберется в этом году, местные даже предполагать не берутся — с каждым годом приезжать становится все сложнее.
Сегодня, кроме четверых местных, сюда регулярно приезжает несколько дачников. Николай бывает здесь каждое лето. Мужчина родился в Бармутах, а потом на двадцать лет потерялся на флоте. Сейчас он на пенсии. Возвращаться сюда насовсем не захотел, но и продавать родительский дом не стал.
— Детей сюда не загонишь. Хотя нет: траву вот выкошу, мангал поставлю, мясо пожарю — тогда приедут, — смеется мужчина с тримером в руках. — Я понимаю, что работы тут нет, кто ж сюда поедет. Теперь только бабушки, пара дачников и фермеры, которым землю дали. Один голубику выращивает, у него большой участок. Он сюда из других деревень рабочих привозит, но это не про жизнь.
Еще одного мужчину сюда привела трагедия. После гибели супруги Михаил решил купить дом в деревне и держать козочек с курочками.
— Я тут не живу, но иногда на ночь остаюсь, если домой не успеваю. У меня козы вреднючие, поэтому им надо где-то подальше от людей быть. Я здесь домик купил, приезжаю периодически. Тут и погост родительский недалеко.
Знаешь, у меня жена погибла, дети уже сами по себе. Нашел себе женщину, она четырнадцать лет вдовой была. А у нее девять детей от одного мужа. Вот и сошлись с ней. Теперь есть смысл жить.
Но иногда надо и одному побыть. Я в колхозе работаю, а потом сюда приезжаю. Козы, куры, тишина, а иногда и выпить немножко можно, чтобы дома сильно не ругались. Хотя моя по телефону все равно слышит и отчитывает, так что даже в глухой деревне не спрячешься, — смеется мужчина с доброй запоминающейся внешностью.
Когда-то на этой березе висел почтовый ящик, но из Бармут давно не уходят письма. Отверстия от гвоздей зажили, дерево здорово набрало в области талии. Кто-то разобрал крышу торцевого дома и начал бесконечный ремонт. Дети и внуки местных пытаются продавать старые дома, хотя ехать в такую даль сегодня готовы единицы.
Наверное, это нормальный порядок вещей, и возмущаться тут нечему: кто-то рождается, кто-то умирает, кто-то делает вид, что живет. Люди переезжают в более крупные населенные пункты, и это касается многих стран — мы не стали исключением. Хорошо это или плохо — разговор отдельный. Но так есть. Эти ботинки стоптались, и чинить их некому. Да и надо ли?
Читайте также:
- Технику доставляли по льду, а детей отдавали в другие семьи. Репортаж о самом большом острове в Беларуси и его последних жителях
- У Беларуси слабый пульс. Припять заболела и не знает, как ей лечиться
- Белорус 42 года прожил на болотах из-за драки с участковым. Боялся, что отправят на Колыму
- Остался только пепел. Белорус ушел с работы пораньше и теперь должен $2 миллиона
- Сорок лет одиночества. История белоруски, которая живет в глухом лесу совершенно одна без электричества, телефона и водопровода
Покрываем интернетом все уголки квартиры и дачного участка — усилители Wi-Fi в Каталоге
Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро
Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. nak@onliner.by